Несостоявшийся диссидент
Гамал Боконбаев
— Горбача-то грохнули! – крикнул с порога Женя. – Вы что, не в курсе что ли?
Никогда не приходивший в мастерскую раньше одиннадцати (утренняя ванна, чашечка кофе и сутками напролет включенный телевизор), он «нарисовался» в тот день намного раньше. Я ничего не понял, а когда выяснилось, что теперь у власти ГКЧП — путч и чрезвычайное положение, — безразлично поинтересовался: какое это отношение может иметь к нам и к тому, чем мы теперь занимались. Произошедшее казалось далеким и непонятным. Я всегда предпочитал просто работать, особо не интересуясь тем, что творится «наверху», где политики якобы вершат наши судьбы.
Этот летний день был замечателен моросящей прохладой дождя. Фантастическое освещение сделало нашу прогулку по городу завораживающей. Ребята кое-что купили, уже не припомню кто – что. Даже я присмотрелся к джинсовой куртке, в последний момент смутил разноцветный, во всю спину, американский орел, вышитый терпеливыми китайскими рукодельницами. События дня того стоили – и по дороге была куплена бутылка коньяка.
Наша мастерская находилась на верхнем техническом этаже высотного жилого дома с великолепным видом на город и выходом на плоскую кровлю, на которую мы частенько выбирались, любовались небом над головой и закатами на горизонте. Устроившись удобнее возле открытого окна, мы решили закончить этот день общением. То есть просто посидеть, поболтать и обсудить, что же теперь с нами со всеми будет.
— Послушайте, гуру, — начал Женя после первой неспешной рюмки, — вот ты, и совершенно справедливо, называешь мои картины «неудачно испачканными тряпками».
Это было не совсем так. Я часто открыто высказывал свои суждения, и за эту самоуверенность меня и прозвали «гуру». Но Женька не всегда «въезжал» в парадоксальную критику – в моих ярлыках всегда был обратный смысл. К тому же его неожиданное самобичевание застало меня врасплох.
— Да прекрати ты открещиваться. Ведь так, гуру, угу? Угу? Да не обижаюсь я, — сощурил он глаз на мои оправдательные пояснения и продолжал:
— Так вот, мэтр ты наш, ты, как всегда, прав, но теперь эти неудачно испачканные тряпочки приобрели совершенной иной смысл! Я и сам согласен, что мои работы так себе, дерьмо, одним словом. Так выпьем же за путч и за то, что он превратил наши никому не нужные картинки в диссидентскую живопись!
Я начал догадываться, куда он клонит.
— Вот смотри, — Женя выставил в центр комнату одну из своих работы, — теперь это называется, знаешь как? – «Раздавленная танками».
— А почему кукла? Кукла это как-то несерьезно, как-то понарошку получается, — возразил я, начиная играть в его игру.
— Правильно, вот умница. Значит, иначе, например: кукла бедной маленькой девочки, раздавленная танками путчистов»! Проходит? Проходит. Или вот еще смотри. Назовем это так – «Портрет души расстрелянного демократа». А кукла — это как бы его душа, чистая, наивная, замученная военщиной.
Это тоже проходило. У «портрета» на месте одного глаза была прожженная дырка, а другой смотрел удивленно, испуганно и одновременно доверчиво.
— А ты не слишком того, не слишком полагаешься на всякую «херомантию», — включился в разговор молчаливый Андрей.
«А мо жжет и не слишком» — подумал я про себя. У Жени был нюх и был чертовски удачлив на деньги, хотя часто высокомерно плевался на собственную фортуну слюной. Объясняя сам себе эту страшную несправедливость, я предполагал, что когда Женечка вылез на свет божий, то, наверное, сразу стал клянчить: «Денег, денег хочу». Я, наверное, что-то бормотал о работе. И боженька не забывал Евгения Николаевича, мне же с полным правом мог ответить: «Просил работы – получай, а про деньги ничего сказано не было».
И я еще раз подумал: «Может быть, прав везунчик Джон и посетил нас Его величество случай, а мы по глупости не видим этого».
— Согласитесь, коллеги, таким художникам, как мы, цена три рубля ведро в базарный день, — не унимался тем временем оратор, — да я и не рассчитываю на миллионы. Быстро наделать работ двадцать-тридцать и организовать «подпольную» выставку-акцию, здесь в мастерской на крыше. Половину картин можно сразу сдать за «зелененькие» богатеньким жалостливым заморским «буратинам». Нам ведь немного надо: машину какую-нибудь, домик за городом, мастерскую для работы. То, как мы работаем, — это уже класс! Но поймите, орлы, произошел фокус: наши, официозом непризнанные работы, теперь стали оплотом борьбы за демократию. Мы в этом не виноваты, мы и не старались вовсе, но мы в фаворе. Все сейчас затанцуют танец маленьких лебедей. И мы станцуем, да не так! – торжественно витийствовал таксидермист, перековавшийся в диссидента.
Продолжили мы вдвоем на временно холостяцкой квартире у новоявленного «нонконформиста». Говорили о том, что все успешные художники ловили момент, были конъюнктурщиками у времени. Импрессионисты охотились за «новыми французами», Пикассо своевременно набрасывался и до конца выедал все мало-мальски новенькое, извращенца Дали вовремя нашла стерва Гала. Шестидесятники лучше всех отработали в «оттепель», та же «перестройка» многим помогла подняться. Да и вообще гении – это самые опасные для окружающих близких люди: использовали их до полусмерти, как вампиры. А нам-то что мешает воспользоваться ситуацией. Много еще неумного и неумеренного мы наговорили в тот вечер. Мы то радостно пили за выгодный для нас поворот событий, строя нескромные планы; то пьяно плакались на выдуманные обиды – лучший друг увел любимую подругу; и еще что-то бессмысленно в этом роде.
Утром мне хотелось только одного – уксуса. Я знал одно место, где в это время можно было получить безопасно уксус с лапшой. Поблизости от нас в незаметном кафе с восьми утра торговали ашлям-фу (уйгурское, холодное, острое, прочищающее блюдо), туда я и намылился. Женя наливал себе «лекарство».
— Тебе пить вредно, — назидательно заметил я перед уходом.
— Мне жить вредно, — мрачно добавил он, кивнув головой.
Через три дня все было кончено, путч позорно провалился. По телевизору один оратор никак не хотел вспоминать простую аббревиатуру ГКЧП.
— Эти… как их там… гккчгч кака, — обзывался он на неумелых путчистов, наверное, сказать было больше нечего.
— Ну, как их там, подскажите, — обращался он к окружившей его ликующей толпе. Митингующие одобрительно умилялись.
Женя не выходит из запоя. Эти три августовских дня давали ему достойный повод продолжать пить с полным на то правом. Однажды вечером он добрался-таки до нашей мастерской, измученный, с почерневшим лицом, волоча за собой побрякивающую бутылками сумку. Я его не поддержал (таких, как я, он мог троих перепить) и предусмотрительно уехал в тихую заводь, какой была для меня квартира моей мамы.
На следующее утро мы с Андреем обнаружили на открытой террасе кучу пепла и недогоревшие обрывки холста. Я живо представил себе, как Женя в одиночестве на крыше двенадцатиэтажного дома, под звездным небом в центре города пил всю ночь водку, жег свои картины и пьяно оплакивал ускользнувшую от него в очередной раз игривую девочку-удачу. Слабый отсвет догорающих картин освещал слезки-дорожки, катившиеся по его грязным от копоти, помятым щечкам. Душещипательная картина.
А работ его стало жаль. Зря он так, все-таки сгорели не просто «неудачно испачканные тряпки». За автора «аутодафе» я не беспокоился: Евгений Николаевич был живуч, как вирус. Вот только в следующий раз не спалил бы мастерскую, гад.
Август–сентябрь 2001.
Женя тогда занимался тем, что приклеивал на холст разнообразные детали детских кукол. Предварительно распиливал их на части, обжигал, обильно поливал краской: в общем, всячески экспериментировал, сам «балдея» и по-детски восхищаясь тем, что получалось. На мой взгляд, получалось нечто среднее между дурным вкусом эзотерических увлечений и неумелым коллажом. Он называл свои работы так – «Упражнение таксидермиста е 1», «… е 2» и так далее по порядку. При этом Женька жаловался, что ему не хватает техники – на самом деле не хватало мозгов. Он жег куклы, но нагло оставить окурок на своем «произведении искусства» ему не хватало смелости.
В то время мы все варились в одной каше. Работы Жени были ничем не хуже и не лучше многих подобных экспериментов других художников-любителей, которые сознательно или несознательно занимались чем угодно, только не живописью. Мне все эти «объекты» казались бесперспективным времяпровождением, но я относился к ним терпимо и не считал себя вправе судить. Во всяком случае, к чести Евгения Николаевича, надо отметить: по какому-то денежному везению он умудрялся не опускаться до той тошнотворной халтуры, которой мы все частенько грешили.
Модель пирамиды
Древний Египет. ХХ в. до н.э.
Кроме всего прочего, здесь невероятная, невозможная сейчас гармония: изображения символа, знака, текста. Все эти элементы еще не разделены и составляют единое целое, и, кажется, не может быть иначе. Сейчас дикая смесь понятий – христианских, мусульманских, буддийских, светских и атеистических – невозможно побороть кашу, она и есть суть нашей дилетантски информированной и маргинально свободной эпохи.
И если изображение и знак еще можно модернистски скомпоновать, единству всегда будет мешать текст – современный, космополитический, унифицированный шрифт, — который уже никогда не будет сочетаться с изображением, и дизайнеры всего мира погибают в тщетных попытках решить эту задачу. В этом смысле графике пришел конец. И в этом смысле (как и во многих других случаях) золотой век позади.
Из книги Гамала Боконбаева «Черный мольберт», ИД «PRINTHOUSE», Бишкек, 2008.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

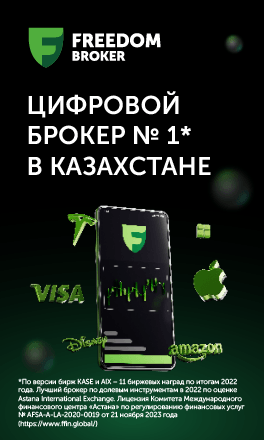
Комментариев пока нет