Наше прошлое покоится на чужих кладбищах
Карлыгаш Еженова
Ермек Турсунов – замечательный «кейс», который заслуживает пристального внимания с точки зрения того, чем мы можем быть интересны себе и другим, – самобытностью. Это единственное, что еще есть у нас и чего не хватает миру, уставшему от однообразности глобализации. Правда, наша индивидуальность более всех заинтриговала нас самих. Иначе почему имя Турсунова в прошлом году было едва ли не самым упоминаемым в стране? Неважно, под каким знаком…
– Ермек, выскажу свое личное восприятие фильма «Келин». Фильм, безусловно, очень талантливый, глубокий, но мне показалось, что этот фильм претендует на то, чтобы стать модным, это такое модернистское, западное искусство, что он все-таки ориентирован не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю. На ту аудиторию, которая нас абсолютно не знает, эдакая обаятельная этника, технически очень хорошо сделанная, но все же рассчитанная на аутсайд. А вот фильм, который заставил меня полюбить еще больше казахов, – это «Тюльпан». А Вам он не понравился?
– Фильм «Тюльпан» – это профессиональное, сильное кино. Но он мне не понравился по своему основному мессиджу: он депрессивный, он упаднический. В чем его сверхидея? Это полная безысходность, никакого будущего. Это как живописать аварию: тщательно прописанный труп с раздавленной головой, подробности переломов, запекшаяся кровь, отпечаток протектора на асфальте, остекленевшие глаза…
– Тем не менее я считаю, что это лучший фильм, который я посмотрела за последнее время.
– Возможно. С точки зрения ремесла это очень качественное кино.
– Да, именно. Если ремесло – в глубоком смысле этого слова. Я в этом фильме никакой безысходности не увидела, я плакала и смеялась, я полюбила казахов всей душой, потому что я увидела, какие они чистые. Эта поющая девочка, этот пацан, который носится на ветке, – какое у него богатое воображение! Коряга для него и автомат, и самолет… А главный герой остался верен ценностям, не прельстился городской жизнью… Кто сказал, что это не самый лучший способ не разрушить этот мир? Кто сказал, что в небоскребах жить лучше?
– Этот фильм делали неглупые люди, но я после этой картины плохо себя чувствую. А с каким чувством я должен выходить после просмотра картины? По-моему, чувство должно быть позитивным. Можно рассказать трагедию, но так, чтобы человек приобрел новый эмоциональный опыт и непременно обратил его в позитив. А этот фильм… вся жизнь этого парня, который приехал после службы в Морфлоте, в том, чтобы найти себе женщину, которая одна в округе, да и та ему отказала, и он так и будет жить дальше со своим братом. Это изощренное послание о том, что у этого народа нет будущего. По сути дела, жизнь его барановедческая не изменилась: какой она была пять веков назад, такой же и осталась. Как пас, так и будет пасти.
– Зацеплюсь за фразу «искусство должно быть позитивным». Возможно, в целом оно должно быть позитивным, но в нашем случае, важнейшая задача искусства – разбудить душу. А чем это будет вызвано, позитивными вещами, жизнеутверждающими или наоборот, неважно.
– Для меня ясно одно: этот фильм сделан без любви. Отстраненно. Так работает патологоанатом. Холодно, профессионально, местами даже цинично.
– А я почувствовала его любовь. Кстати, о позитиве. Мы недавно с ребятами пытались найти в русской литературе хотя бы один хэппи-энд. Не нашли. Только у Набокова, и то с натяжкой. У нас же с русскими один способ познания мира – через страдания.
– Конечно, страдать – это вторая профессия у больших русских художников. Такой была установка: художник должен страдать. Я, например, Достоевского читать не могу, потому что он абсолютный шизофреник, причем в конечной стадии. Это сатанинский талант. Чехова я перечитываю постоянно, потому что это великая драматургия и литература. И, кстати, абсолютно позитивная. Бунин, Платонов.
– Достоевский на Западе был более других воспринят, может быть, чуть меньше Толстого, именно потому, что это была притягательная картина чужих страданий. Чужим страданиям легче сопереживать, чем собственным.
– Самокопание, самоуничижение, рефлексия – очень заразные вещи. Я не говорю, что это плохо. Просто констатация. После Серебряного века пришел разрушительный Маяковский, «Долой Пушкина с корабля!», а потом уже было то, что все и без того знают. У нас была другая ситуация. Абай – это трагедия мыслящего рефлексирующего человека, который живет среди плебса. Чужой среди своих. Это судьба интеллигента того времени. Алихан Букейханов, Мустафа Шокай – это знание нескольких европейских языков, петербургское образование на одном полюсе и 90% необразованных людей – на другом. Почти вся «Алаш-Орда» –люди с классическим российским образованием, и они приезжают сюда и любят через боль. Они не могут отказаться от этого, потому что это все родное, и изменить это сразу не могут. Самое страшное во всем этом то, что ситуация не сильно поменялась, может быть, даже стало хуже, потому что соплеменники стали образованными, но что это за образование? Я их называю дикарями с букварем. Генерация с ноутбуками. Хитрый приспособленец – не дурак, он умный, просто у него ум работает по-другому. Сейчас время хитрого ума. Время временщиков, которые понимают ситуацию, принимают правила игры, живут по воровским законам. Мы об этом не говорим вслух. У нас паханы в законе; кто-то карманник, кто-то медвежатник, кто-то щипач – все расселись по полкам и все мы едем в одном поезде. А если вдруг захотелось немного культуры… В такие моменты они заказывают картины или книги о себе любимом. Раньше что входило в комплект респекта? Дача, квартира, машина. Сейчас комплект увеличился на несколько пунктов: машина, квартира, дом за границей, любовница, если получится, какое-нибудь престижное хобби, начиная от сигар до игры в гольф, – нужно же приобщаться к прогрессу! Обязательно помимо глянцевой одежды какие-то статусные вещицы, ну лошади, ипподром, или яхта на приколе на Лазурном берегу. Качество жизни улучшилось, но мышление осталось прежним. Плебейским. А хочется видеть себя аристократом, пусть – в первом поколении. Однако они не понимают, что манерность и какие-то внешние признаки не могут заменить качество мышления. Вот с этим уже сложнее. Наши женщины заказывают платья в парижах, но носят их с явным казакпайским акцентом. За всем этим нет традиции, есть долгожданная вседозволенность.
– Детский вопрос: почему вернулись в страну? Не верю, что просто соскучились. Наверное, по той же причине, по какой «Келин» оказалась более интересной на Западе, и Ермек Турсунов оказался более интересным на Западе, но, тем не менее, он вернулся к казахам, которым он абсолютно не интересен. В чем дело, что происходит?
– Здесь аудитория тоже разделилась 50 на 50, кому-то понравилось, кому-то нет. С другой стороны, я ведь работаю не для того, чтобы кому-то нравиться. У меня совсем другие ориентиры. Не о тщеславии речь.
Я бы, наверное, остался там, если бы уехал пацаном, но я уехал уже состоявшимся, разочарованным, потому что это беспробудное казахпайство уже достало. Весь этот аульный аутизм, который мы ошибочно выдаем за национальный колорит. Вся эта шелуха и фальшь, самодовольство и приспособленчество.
– Но там же казахпайства не было – так отчего же вернулись?
– Там не было казахпайства, это да. Но там и ничего не было. Я же не из той категории, которые ищут, где поглубже и рыбы больше. Если бы я хотел материального благополучия, конечно, я бы там остался, мне предлагали гринкарт, я всех устраивал и мог бы работать дальше, у меня были хорошие перспективы остаться и быть законопослушным гражданином США. Просто это не мое.
– Можно, я свою версию скажу? У нас одна и та же болезнь – мы очень амбициозные люди, потому что думаем, что здесь можем что-то сделать для этой страны. Это самая главная причина.
– Конечно. Там ты работаешь больше на себя. Я работал на мормонскую церковь, ставил фильмы, социальные ролики, но однажды ты задаешь себе вопрос: и это всё? Мое возвращение связано с Алтынбеком Сарсенбаевым. Он был тогда министром и сказал мне: «Возвращайся, здесь есть для тебя работа, поработай на страну». Но потом выяснилось, что ты этой стране совершенно не нужен, и она это всячески демонстрирует. А кто такая – Страна? Ее олицетворяют конкретные персоналии, за каждой ошибкой, за каждым решением стоит имя, фамилия и отчество.
Теперь по поводу картины. Я не делал ее адресной: это я сделаю для казахов, это – для русских, а это – для Запада. Зачем так разделять? Это общечеловеческая история. Просто она сделана на тюркском материале, и это значительно раздвигает рамки и географии, и сознания. Это этапная вещь. Для чего? Для того, чтобы сказать: «Мы знаем и Пазолини, и Висконти, и Трюффо, и Жармуша, и японцев… И, опираясь на все это, мы можем сделать что-то свое». Я восемь лет не был в Казахстане, болтался по миру. Последние два года провел в арабских странах. Для чего? Для того, чтобы не по картинкам и не по Интернету, а своими руками потрогать и купель Иоанна, и мавзолей Бейбарса, и могилу аль-Фараби. Я «потрогал» все 53 штата, я их прощупал. Для того, чтобы быть вооруженным современным знанием. И когда я все это переработаю, пропущу через свое родное, казахское, на выходе я дам что-то свое. Например, «Келин». Теперь ее посмотрели в 14 странах мира, и она вызывает везде примерно одинаковую реакцию. Незакомплексованные люди видят в ней свою историю. В Корее говорят – это наша история, в Италии говорят – это наша, даже в Канаде так говорят. Только отдельные казахи отрицают: «Это не наше». И я понимаю, почему они так говорят, я ни на кого не обижаюсь, я делаю выводы. Это ущербное сознание, это проблема малой нации, мы переболеем этим. Основываясь на корнях, я попытался сказать, что есть несколько ценных вещей в этом мире. В первую очередь это женщина – центр мироздания, все ради нее и все держится на ней. Я уже говорил, что занимаюсь штучными вещами, я не подстраиваюсь под мейнстрим. Я считаю, что жизнь дана не для того, чтобы размениваться. Если хочешь что-то сказать, то посвяти этому время. Роман «Мамлюк» – это шесть лет, «Келин» – это пять лет жизни, каждое произведение – это одна фраза. «Келин» – это «Женщина свята». «Мамлюк» – «Мы были рабами, стали царями». Если я за свою жизнь успею сказать шесть-семь самых важных слов, мне хватит.
Время – важная категория. Китай мыслит столетиями, Америка – тоже, потому что они живут у себя дома. В них это есть, чувство дома. А мы, особенно наша элита, мыслями давно уже в другом месте. Они лишь ждут момента, чтобы покинуть страну. Потому что здесь они зарабатывают, но не живут. Жить они будут «там», где сейчас учатся их дети. Они занимаются пока подготовкой плацдарма, чтобы на старости лет залечивать болячки в швейцарских клиниках. Время совминовских услуг морально устарело.
Вообще мне иногда думается, что наша страна живет в двух реалиях, одна реальность настоящая, вторая виртуальная. В этой виртуальной жизни у нас есть все: Парламент, есть исполнительная и судебная власть, вузы, силовые ведомства – короче, все признаки цивилизованной демократической страны. Но все эти институты не работают, а как бы исполняют обязанности. В реальности пенсионеры брошены на выживание, повадки ментов мало чем отличаются от бандитских, в школах дети просто пребывают, в вузах зачет стоит от пяти тысяч тенге, в зависимости от престижности. Через какое-то время вся эта масса молодых и амбициозных людей с купленными дипломами придет на предприятия, в медицину, в большую политику, в школы, вузы… Они будут обучать наших внуков. Какое «прекрасное будущее» нас ждет! Ты думаешь, они этого не понимают? Они все понимают, просто они знают, что к тому времени здесь их не будет. В нашей стране, как в казино: можно заработать. Причем казино с запрограммированными «однорукими бандитами», на которых нельзя проиграть. Так живет наша элита. Мало кто делает ставку на будущее этой страны.
– А больно было, когда били за «Келин» соотечественники?
– Я уже уезжал из этой страны, тогда было больно, а сейчас все заросло, эта ткань уже омертвела.
– Как выяснилось, для того, чтобы наши немногочисленные предприятия вышли с экспортом на внешний рынок, нужны даже не деньги. У них проблема с брендингом и с продвижением. Проблема не с деньгами, а с головой. Что думает об этом Ермек Турсунов? Что им делать: продвигать отдельно свой бренд или нужно продвигать этот товар как казахстанский? И что значит «казахстанский товар»?
– Мне трудно советовать. Я не бизнесмен. Но если человек хочет заработать, то с казахстанским брендом там делать нечего. Или потребуются такие креативные идеи продвигать, чтобы действительно на твой товар кто-то клюнул. А этого нет. Например, «Келин» попал в оскаровский шортлист, у меня есть теперь несколько предложений от американских и канадских продюсеров. Вопрос в другом: нужно ли мне заниматься тем, что они мне предлагают? Они дают мне деньги и кабальный контракт, три года нужно работать на их студию по чужим сценариям. Мне это не нужно.
– Могу я сформулировать, чем Ермек Турсунов интересен для Запада. Он интересен свежестью взгляда, нешаблонностью, тем, что на Западе ценится. Можно ли сказать, что наш экспортный потенциал – это культурная продукция? Свежая, самобытная.
– Да. Это то, что нельзя измерить на весах и в метрах, зато можно просчитать на калькуляторе.
– Что мы еще можем экспортировать?
– Только мозги. На всем остальном давно сидят хозяева. За каждой бензоколонкой стоит свой агашка.
Несколько лет назад мы работали с Тимуром Бекмамбетовым. Это, пожалуй, самый сильный клипмейкер, а теперь и кинопродюсер России. Я ему был нужен, чтобы написать полнометражный мультфильм, необходимо было знание фольклора, этники. И вот сидим мы, пыхтим у него в кабинете. Рядом лежит журнал, и на нем: «Тимур Бекмамбетов – великий российский режиссер». Какой же он российский режиссер? Посмотрите хотя бы на фамилию… Я предлагал сделать совместный проект, который заставил бы наших людей остановиться, задуматься. Но сейчас Тимур – это машина для зарабатывания денег. Это его выбор, никто не имеет права его осуждать. Но мне лично обидно, что умные и талантливые люди занимаются такими проходными вещами, потому что это жесткий диктат времени. Сколько нас, казахов? 10 миллионов? Что такое 10 миллионов? Перекресток где-нибудь в Гуанчжоу. Мы должны понимать: мы маленькие. Но у нас был пассионарный период, и та генетическая память в нас живет, и она заставила меня вернуться назад и заняться тем, чем я занимаюсь, потому кто-то должен это делать. Нужно воскресить все, что было там, через «Келин», «Мамлюк», другие вещи, рассказать этому миру, и прежде всего самим себе, что когда-то мы были пассионариями, но растеряли все это по дороге сюда. Только тогда мы сможем стать Большими. Настоящими.
– Может быть, нация сама себя наказывает?
– Это возмездие за то, что мы спустили в унитаз все, что у нас было.
– Может быть, самоуничижение – это рефлекс спивающегося интеллигента?
– Самокритику мы тоже должны пройти, но это должно быть осознанно. Все говорит о том, что дальше будет хуже.
– Может быть, для того чтобы понять, как все плохо, нужна какая-нибудь трагедия?
– А зачем? Мы и так все в ней задействованы. Мы все ждем конца света, а он уже наступил, мы в нем живем. У нас наиболее обсуждаемые вопросы – ставить ли в паспорт национальность или нет, как выучить казахский язык. То есть вопросы, которые для нормальной страны непонятны. Разве это нужно обсуждать?
Как воспитывают детей? Можно бить, а можно лаской, все зависит от родителей. Если казаха надо бить такими вещами, как «Тюльпан», – давайте бить. Но не надо давать себя унижать, оскорблять не надо. Допустим, я казах, я считаю, что я имею право говорить другому казаху обидные вещи. Пусть он тоже мне скажет, я приму, безгрешных не бывает. А когда кто-то другой говорит, ему не очень-то веришь, у него нет морального права говорить: «Казахи, возьмитесь за разум!». В «Мамлюке» есть одна символическая вещь: когда монголы шли на арабский халифат, Бейбарс встретил их в местности Эйнджалут, это рядом с Мертвым морем. Я поднялся на гору Моисея, внизу раскинулся Иерусалим, то есть получается, монголы шли на Иерусалим. И почему арабы говорят, что Бейбарс святой? Потому что если бы монголы взяли Иерусалим, арабы были бы сейчас иудеями, то есть он спас ислам. За всем этим стоит одна замечательная вещь, которую никто не знает, когда я узнал об этом, у меня по телу побежали мурашки. В составе монгольского войска было 80% кипчаков. В составе войск Бейбарса 95% кипчаков. И кипчаки против кипчаков на берегу Иордана в XII веке под чужими знаменами за чужие святыни бились друг с другом! Это весьма символично. Что мы сейчас имеем? Мы имеем то же самое – внутри себя ужиться не можем.
– Так в чем же дело? Все из Казахстана не уедут. Тогда почему население такое апатичное и аполитичное? Почему нация проглотила насилие над собой? Это же не только страх, это же еще что-то другое…
– Это рабское сознание, оно вбивалось десятилетиями и въелось в кожу, как ржавчина. Была колония, потом пришли белые люди и сказали: «Вы больше не колония». И что же, сознание сразу переключится? Так не бывает.
Каждое поколение приходит для того, чтобы исполнить какую-то свою историческую роль. Не бывает миссии бесполезной. Она может оказаться просто непродуктивной. Иными словами, как это ни обидно звучит, но нашему поколению выпало быть навозом на полях истории. Между прочим, это тоже очень важная функция. Может быть, что-то да и произрастет потом. Важно, чтобы уехавшие захотели вернуться, чтобы плодотворно работать с теми, кто сейчас все «разводит». Правда, те, кто вернутся, будут отравлены западными ценностями, они вернутся для того, чтобы что-то изменить, и будет конфликт элит и мировоззрений.
Почему наше поколение малопродуктивное? Потому что мы приспособляемы, мы прошли советскую жизнь, мы помним то и мы приняли это. Главное наше приобретение – терпимость. Теперь мы живем вертепом: есть оркестр, есть люди, которые заказывают музыку, есть музыканты и солисты-соловьи, есть невидимые хозяева, на которых работают грамотные менеджеры, есть официанты, которые бегают, обслуживают за чаевые в миллионы и миллиарды, есть женщины, которые пляшут у шеста, есть вышибалы у входа и выхода, есть входящие и выходящие. И есть те, кто никогда не войдет, потому что они не члены клуба.
– На самом деле то, о чем мы сейчас говорим, проходили или проходят абсолютно все нации. Человек везде один. Другое дело, что у нас это происходит в гипертрофированно уродливых формах.
– Думаю, казахов Господь все-таки придумал не зря. Для чего именно, мы поймем позже. Сейчас мы слишком горделивы, чтобы смотреть в зеркало и видеть правдивое отображение. Мы одеты в чужие одежды, они произведены в другой стране, мы разговариваем на языке, который нам навязали когда-то, и это даже не исконно русский язык, а эсперанто бывшего Советского Союза, мы делаем прически и макияж, которые мы увидели в модных журналах, мы напичканы супертехникой, мобильниками, которые придумали умники одной с нами расы, мы летаем и ездим на чужих машинах и самолетах… Получается, 99 процентов нашего содержания – результат чужих усилий и достижений. А что своего осталось? Только выражение лица – вечное недоумение: неужели это я? Сейчас мы не можем даже поставить себе трезвую оценку, не можем определить, где мы реально находимся, – потому что и зеркало нам подсунули кривое. А реальную картину увидят только наши потомки. Потому что они будут беспристрастны. Они будут задавать нам неудобные вопросы: «Вы хотели возродить свой язык и свою культуру? А как вы умудрились их потерять?». Те вопросы, которые сегодня злободневны, потом покажутся смешными. Для многих они уже сейчас кажутся нелепыми. Мы не о том говорим, нам навязывают какие-то второстепенные темы. Не туда мы ушли, наши поводыри были слепыми, и они нас завели в такую дыру, из которой можно выбраться только наощупь, потому что куда ни посмотришь, везде темно. И где-то впереди маячит обманчивый свет, какие-то западные ценности. Может быть, нам и не нужно достигать этих 50 самых развитых. Нам многое нужно пересматривать, а у нас зашоренные очки, мы давно живем на шаблонах. А чтобы мыслить свежо и оригинально, нужно, чтобы нынешние ушли и пришли другие. Иногда чтобы двигаться вперед, нужно сделать несколько шагов назад, поэтому я делаю «Келин», «Мамлюк», захожу в ту эпоху, когда мы соответствовали себе, были оригинальны. А сейчас мы клоны, потому что мы все хотим быть похожими на кого-то. Нам нравится, как у них, нам нравится, как они пахнут, как они едят, как они живут, поэтому мы хотим быть, как они. Получается так себе. Зато повысилась самооценка: внешне мы ничем не хуже.
– Думаю, одно из достижений Запада – это то, что они научились индивидуальность ценить и продавать.
– Да, это правда, потому что они понимают, что индивидуальность рождает идеи, а идеи оборачиваются деньгами. Мы всю жизнь жили скопом – общиной, а индивидуально мы жить не умеем.
Сейчас столько возможностей, и всего так хочется, а изголодавшееся нутро хочет всего и сразу, ее так долго держали на диете. А перед глазами нет других примеров. Нет альтернативы. Поэтому мы тянемся ко всему западному. А там, честно говоря, и своих минусов хватает.
– Может быть, дело как раз в этом – чужие ценности нелигитимны, а своих нет. Ведь их нужно выстрадать, вспомнить, воссоздать…
– Вот самый главный ответ – сами мы ничего не умеем, а тем из нас, кому дано что-то делать, мы это сделать не дадим. Потому что это не похоже на то, что сформировалось в нашем представлении. И поэтому казахи, которые уехали отсюда, живут и процветают. Потому что им здесь работать не дали. Кто-то говорил, что культура нации определяется количеством мыла, потребляемого на душу населения. А я считаю, что культура нации определяется состоянием кладбищ, ситуацией с мусором и отношением к женщине. У нас по всем показателям сплошные провалы: похороны зачастую превращаются в фарс, с элементами нездорового соревнования, на мусор вы можете наткнуться даже в заповедниках, а наши женщины перестали быть женщинами. Они стали больше мужчинами. Они думают о бизнесе, о том, как содержать офис, платить людям зарплату, как образумить мужа, если таковой имеется. А они не об этом должны думать. Они не должны работать как проклятые, они должны кайфовать. Не думать о деньгах, не думать, как дожить до следующей зарплаты. Захотела – уехала в Марокко с детьми, захотела – прочитала книгу, захотела – написала книгу. Тогда будущее поколение будет нравственно и физически здоровым.
– Самое парадоксальное, что наши отцы и деды жили в страшных условиях, войну перенесли, голод, но в них больше любви к жизни, чем в нас. Наши апашки – сколько в них жизнелюбия! Им никакое Марокко и не снилось – есть у них 40 баранов, и они довольны. Может быть, наша ущербность в том и кроется, что у нас ничего своего нет. Может быть, потому и несчастливы, потому что понимаем, что завтра с нас снимут «Бриони», отберут машину, заберут дом, напичканный японской техникой, – и у нас ничего не останется…
– Поэтому я и говорю: давайте обернемся! Чтобы понять, почему мы сейчас в таком состоянии, нужно начинать не с революции 17 года, а гораздо раньше. Давайте для начала проветрим помещение и выбросим ненужные вещи. Не о том говорят все наши псевдолидеры, псевдовожди. Настоящие работают на чужие страны. И это уже было. Очень давно. Аль-Фараби похоронен в Дамаске, Мустафа Шокай – в Берлине, Алихан Букейханов – в Питере, Султан Бейбарс лежит в Сирии, то есть все наши – почему-то на чужбине. И я это еще не всех назвал. И нынешние тоже будут похоронены на чужих кладбищах. Мы потом вспомним о них, но будет поздно.
– Вы знаете, в чем секрет «Келин»? Людей что-то задевает, раздражает, просто они не могут понять, что. На самом деле этот фильм задел в них что-то давно забытое. Как старая полковая лошадь при звуках трубы: встрепенулась, и не может понять, почему. Он будит душу, как бабушкин сундук.
– Есть такое состояние, как летаргический сон. Не дай бог человека оттуда вернуть. Он возвращается с большими потерями, потерей памяти, разума, физиологическими потерями. В фильме использовались звуки восстановленных инструментов, которые когда я слышу, ощущаю, словно звуки из могилы. Это эксгумация памяти. Кому это может понравиться? Это же так раздражает. Мне было хуже всех. Потому что когда я это делал, я понимал, что вот оно – настоящее, которое мы потеряли.
– Не было ощущения, что прикасаешься к чему-то запретному?
– Все мои знания рядом с этим – ничто. Поэтому я сразу отказался от диалогов. Фраза – это фальшь. И ни актер, ни оператор ничего не понимали. Столько людей работало над этой картиной, и каждый делал свое, а когда собрали – не все поняли, что сделали.
– Не было никаких мистических историй?
– Плохо спал, а после картины месяцев шесть болел. Это был такой удар по психике, потому что ты по неведомому лазишь. Ты понимаешь, что зашел за шлагбаум, а там начинается запретная зона. Это такое одиночество. Да, ты можешь уехать хоть куда, но от себя не убежишь, когда ты понимаешь, что где бы ты ни находился, хоть на Марсе, генетический код в тебе живет. Поэтому я и вернулся. Я не могу заниматься поденщиной. Вот и все.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

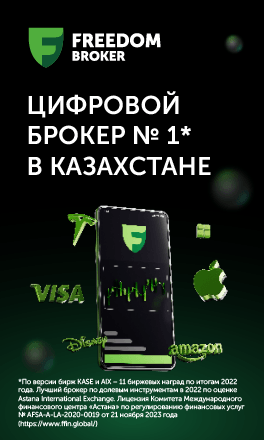
Комментариев пока нет