В гибели двух полицейских виноват их коллега
«Я его (вирус covid-19) вижу и знаю, что он может быть опасным. Но не думаю, что он тотально опасен», — считает анестезиолог-реаниматолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ) Владислав Нечаев, работающий с самыми тяжелыми ковидными больными.

По его словам, никто из врачей не кинулся в реанимацию добровольцем: «Мы не хотели туда идти, но понимали, что это необходимость».
Как все начиналось
На днях Кирилл Зверев, сын российского академика-вирусолога Виталия Зверева, выложил в ютуб беседу с доктором Нечаевым.
— Как это начиналось, то есть когда вас решили перевести в ковидную реанимацию?
— Когда мы поняли, что происходит в стране и что нас ждет, на территории нашего института стали готовить два корпуса, не сообщающиеся с другими. Мы ожидали, что они заработают после первого мая. Но первых пациентов вынуждены были принять в режиме «ошпаренной собаки», фактически на коленках, уже 27 апреля. Адаптация к новым условиям работы происходила в авральном режиме. Аппараты ИВЛ устанавливались фактически вместе с тяжелыми «приезжающими» пациентами. Люди (имеются ввиду медперсонал) в этот же день были вынуждены резко изменить образ жизни и, распрощавшись надолго с семьями, начать работать.
Предчувствуя это (ковидные пациенты уже появлялись в Институте), я еще в начале апреля увез жену с маленьким ребенком к своим родителям в другую область. Хотелось все-таки приходить домой спокойным за своих близких.
— Начнем с конца. Есть ли смертельные случаи среди медперсонала?
— К счастью, у нас еще не было, но в Интернете есть официальный «Список памяти». На данный момент там имена более 250 российских медиков разных возрастных групп. По общей статистике, выходит, что каждый 12-й из погибших от ковид – это медработник: врачи, санитарки, медсестры, водители скорой помощи… Люди выбывают постоянно, но нас пока это обходит.
— А тяжело заболевшие среди вас есть?
— Есть. Достаточно большое количество сотрудников, которые поработали в реанимации и в других подразделениях, лежат в соседнем корпусе.
— А кто лежит в вашей реанимации? Что это за контингент людей?
— К сожалению, наши пациенты исходно тяжелые даже без ковидной пневмонии.
Многие из них имеют терминальную стадию почечной недостаточности, тяжелый сахарный диабет и гематологический профиль — всякого рода лейкозы. Молодых, здоровых, не имеющих отягощенного анамнеза, мало.
— Если пациенту нужен диализ, то его вы осуществляете это в ковидной реанимации?
— Да, конечно. Отделение реанимации — это не только пневмония и кислородозависимость. К нам попадают пациенты, нуждающиеся в постоянном лабораторном контроле и работе с их дыхательной функцией. То есть это уже не просто ингаляция кислорода, а необходимость частичного или полного протезирования функции дыхания. Это то, что люди называют ИВЛ. После прохождения компьютерной томографии ставится несколько стадии повреждения легких: КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4. Каждая из них добавляет 25%. КТ-4, например, — это повреждение лёгких более, чем на 75%.
— Какой в основном возраст попадает в больницу?
— Есть молодые и очень пожилые (80 и выше), но, в основном – средний возраст, который крутится вокруг 50 лет.
— Но как люди среднего возраста, не отягощенные другими болезни, минуя все стадии, сразу попадают в реанимацию? Они не вызывали врача? Не следили за своим состоянием?
— Для нас догоспитальный этап остается непонятным. Молодой и здоровый человек на каком-то этапе может иметь иммуносупрессию, обусловленную перегрузками, весенним авитаминозом или массивностью вирусной атаки в тесном узком коллективе, где один из участников был выделителем вируса, и при этом его (вируса) экспозиция была достаточно долгой.
Соотношение 80 на 20
— Как вы у себя в отделении лечите пневмонию?
— Специфического противовирусного препарата нет. В ряде случаев применяем те, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции, а для профилактики — противомалярийный препарат плаквенил. Что касается последнего, то у меня нет однозначного мнения о нем, но коллеги, которые принимали его, или не болели совсем, или имеют КТ-0, хотя там идет огромная «побочка», этот препарат очень гепатотоксичный. Применяем еще блокаторы «цитокинового шторма», но они хороши на определенных стадиях — когда у пациента идет активная атака и мы «поймали» его именно в момент развития дыхательной недостаточности, с высокой температурой, с растущей на глазах одышкой, гипоксией. И вот тогда мы применяем ингибиторы интерлейкина-6. Отделение реанимации помогает не умереть человеку в конкретный момент, мы даем ему шанс выжить. Эти попытки растянуть по времени выглядят по-разному. Некоторые пациенты могут какое-то время дышать с помощью обычной лицевой маски. Это просто стопроцентная ингаляция кислорода. Но таких пациентов у нас очень мало. Большинство из них мы максимально пытаемся тянуть на неинвазивной ИВЛ. Это тоже вентиляция, но пациент находится в сознании, активен, мобилен, может сам поесть, справить естественные потребности, хотя он и на коротком «поводке» — ограничен контуром дыхательного аппарата. При одышке перерасход энергии бывает огромный. Надолго пациента не хватает, он дышит натужно, с привлечением дополнительной дыхательной мускулатуры, а неинвазивная ИВЛ создает условия для более эффективного дыхания. Эта маска имеет силиконовую манжету и, плотно прилегая к лицу, фиксируется специальными ремешками. Давление, которое создает аппарат, помогает пациенту осуществлять вдохи.
— А выдыхает он как?
— В контур – в шланги дыхательного аппарата. Есть еще такой параметр в ИВЛ как – положительное давление в конце выдоха (ПДКВ).
— Раньше, говорят, клали пациентов больше на инвазивный ИВЛ. Сейчас это – крайний случай…
— Ну скажем – не совсем крайний. Пациентов на ИВЛ, которым приходится интубировать трахею, достаточно много. Далеко не каждая районная больница может себе позволить себе хотя бы два аппарата неинвазивной ИВЛ. Он – дорогущий и подбирается под анатомию лица пациента. И подогнать маску под него, чтобы она была герметичной, – это тоже определенное действие.
— Ходит слух, что на инвазивном ИВЛ практически нулевая выживаемость.
— Все здесь не настолько однозначно. Американцы – да, сейчас нервничают. Когда мы прослушиваем вебинары, то там одно время у них проскакивали истеричные нотки, что ИВЛ – знак равенства со смертью.
— Проскользнула информация, что чуть ли не 80% с инвазивной ИВЛ в гроб снимают…
— По разным больницам по-разному, но в не пользу пациентов — соотношение не 50 на 50. На мой взгляд, хорошо, если 20% выживают. Когда у пациента начинаются серьезные дыхательные расстройства, плывет сознание, он становится неадекватным, то это уже не то состояние, чтобы его можно малоинвазивным способом обеспечить кислородом. Речь в данном случае идет об очень серьезном, массивном поражении. От лёгких, по сути, ничего не осталось, но ни один анестезиолог-реаниматолог не будет смотреть, как пациент у него на глазах задыхается. Он будет применять инвазивный аппарат ИВЛ, чтобы обеспечить пациенту хоть какую-то функцию дыхания.
— Вы сказали, что «легких почти нет», а у выживших 20% они восстанавливаются?
— Однозначно ответить на этот вопрос я не могу. Лёгкие на вскрытии у погибших пациентов выглядят жутко. Если в норме они у человека, умершего по каким-то другим причинам, весят грамм 600, то у пациента с вирусной пневмонией раза в три больше. Нам самим страшно становилось, когда мы видели, что за «месиво» остается от легкого.
Но это не так часто случается. Реанимация — это всё-таки конечный этап, хотя пациенты, у нас лечатся долго.
— А сколько времени они у вас лежат?
— Если считать, что работаем с прилегшими у нас больными с первого мая (запись велась 20 мая. – Ред.), то выписка у нас была не такой уж большой. Три человека.
— Сколько человек за это время вы похоронили?
— Я не хочу об этом говорить и озвучивать цифры.
— Но умирают?
— Умирают. Среди них и медработники из области.
— А дети болеют?
— Тот ролик, где Малышева (Елена Малышева, ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале». – Ред.), говорит, что дети не болеют covid-19, стал мемом, но я с ней не согласен.
— У вас есть и дети?
— Наша реанимация не профилирована под детей, но детишки-то разные бывают. В условиях урбанизации и цивилизации, даже если ребенок считается здоровым соматически, то он может быть аллергиком, как и основная масса городских детей. То есть и они тоже болеют.
Причина «взрыва» в Италии
— А не может быть так, что у пациента пневмония бактериальная или стрептококковая, а covid-19 идет просто фоном?
— Любая вирусная пневмония становится бактериальной через какое-то время. Поэтому все пациенты получают антибиотики. Вирус всегда эпителиотропен. Эпителий – это выстилка, покровная ткань. Дыхательные пути – это тоже эпителий. И вирус, условно говоря, делает дырки в нем, повреждая его клетки. Поврежденная клетка становится входными воротами для любой бактериальной инфекции. Мы все имеем условно патогенную флору. Когда все в норме, не болеем, но, если что-то случилось, условно патогенная флора начинает работать как враг нашего организма. И, естественно, на «дырки», сделанные вирусом, быстро садится бактерия, зачастую усугубляя тяжесть дальнейшего течения болезни. Когда люди живут скучено, большими группами, а помещение вентилируется не очень активно, то вероятность подцепить вирус очень большая. Почему в Италии такой взрыв случился? Как оказалось, далеко не у всех итальянцев имеется адекватный микроклимат в их домах – отопление и поддержка влажности. Ну и, конечно, человек должен находиться на свежем воздухе как можно чаще.
— Правда ли, что смена у вас длится 12 часов подряд?
— Именно у нас в институте смена занимает 12 часов, но есть один перерыв.
— И вы в это время меняете костюм?
— Да. Но одеться в СИЗ — это не футболку и штаны надеть. Идет полная подгонка всей амуниции. И если что-то где-то неплотно прилегает, это проклеивается скотчем. Одеваются вместе, как минимум два человека, чтобы проверить друг друга. Отдельный момент – подбор респираторов. Иногда с одноразовыми бывают перебои и приходится использовать многоразовую маску со сменными фильтрами, что совсем неудобно. Есть большие лицевые маски, у которых впереди стекло овальной формы. Такие мы не носим, потому что они через два часа…
— Запотевают?
— Не запотевают, а есть такое понятие как гиперкапния, когда можно просто умереть от избытка углекислого газа, скопившегося у лица. Лучше очки, хотя их приходится обрабатывать, потому что, если они начинают потеть, ты уже не дееспособен.
— А если они запотели в зоне риска, то что делать?
— У нас есть маленькие фены. Погреть очки им – единственный выход. По-крайней мере, у нас.
— Получается, 6 часов подряд врач находится в этой «душегубке». А как ходить в туалет?
— Каждый выходит по-разному из ситуации. Допустим, у меня получается шесть часов без памперса обходиться, хотя в первый день я свалился с почечной коликой. Особенно тяжело было выходить из зоны. Снимать СИЗ – задача более ответственная, чем надевать его, потому что он весь загрязнен сверху.
— А чем?
— Мы работаем с аэрозолями — мокротой пациентов, капельками крови. Это не то, что кто-то пробежал и чихнул на тебя. Любая биологическая жидкость из дыхательных путей – инфицирована. Конечно, существует куча рекомендаций, как интубировать пациентов, избегать летящей в тебя струи аэрозолей, но очень сложно соблюсти условия. Как ни старайся, не получается, особенно если ситуация экстренная. Об этом говорят все, кто работает именно в очаге.
— А что у вас с носом (у Влада нос – сплошная рана, местами замазанная зеленкой)?
— Резиновый респиратор – это зло, особенно, когда находишься в нем порядка шести часов. Когда надеваешь его, под ним лицо не высыхает. И лепесток, который перекрывает на вдохе маску, бьет достаточно сильно, а с учетом того, что нос у меня «героических» пропорций, за шесть часов до перерыва мой нос превратился в такую фигню. Корочка подсохнуть не успела, а сегодня пришлось отдирать уже одноразовый респиратор, который присох к носу. Как-то так.
— То, что смена шесть часов подряд, — не перебор?
— Гарантированный срок работы одноразового респиратора третьего класса защиты именно шесть часов. Сейчас у нас бригады очень сильно уменьшились. Люди болеют, работаем по двое, хотя исходно на каждую палату было по три реаниматолога.
— А сколько у вас пациентов?
— В моей палате девять коек. Кажется, что это не много. Но, на самом деле, когда напарник уходит на перерыв и ты остаешься один, то приходится носиться между пациентами. Постоянно на ногах. Перерыв — полчаса, минут сорок, а еще надо снять и надеть СИЗ.
— А сколько это по времени?
— У всех по-разному. У меня — около 20 минут. Это же еще и очки подогнать. Если их плохо обработал, то дальнейшее смысла не имеет.
Вирус и слезы
— Академик-эпидемиолог Филатов сказал, что вирус не передается через глаза, по крайней мере – это не доказано.
— В мирной жизни я работаю глазным анестезиологом и в пику могу сказать, что через носослезный канал вместе со слезной жидкостью (когда люди плачут, то обычно хлюпают носом) вирус может попасть в нос. Плюс к тому же в очках влажность и так высокая, поэтому они не абсолютно герметичные, там есть небольшие вентилирующие отверстия. Если их полностью закрыть, будет тяжко.
— Насчет гостиниц, куда вас поселили. Когда вы едете в одном автобусе до нее, вы же можете друг друга перезаражать.
— Это так. По статистике персонал больше заражается именно в чистых зонах или когда снимаем СИЗы.
— Но вы же не облизываете СИЗ и с него не брызжет аэрозоль.
— Какое-то неудачное движение — мазанул по лицу, вдохнул неудачно… Не все такие гибкие, чтобы правильно снять СИЗ чистой частью наружу. Поэтому мы соблюдаем ритмичность — выходим по двое.
— Но когда же всё это кончится?
— Мне самому хочется это знать! Я не получаю каких-то положительных эмоций от своего нынешнего существования. Никто из врачей не считает себя героем. Да, сейчас чуть больше ответственности, морально тяжело, потому что в нашем подразделении показатели смертности достаточно высокие, много выбывших из строя коллег, время между сменами сильно сокращается. У меня она 12 через 12, это тяжело. Когда начинали работать, то один выбывший не так чувствовался, а сейчас мы — как натянутая резинка. Еще чуть-чуть и она лопнет и мы посыпемся. Ждем выздоравливающих медиков, заболевших на первом этапе.
— А студентов не дают?
— Приходят ребята, которые закончили у нас ординатуру. Но человек должен прежде все-таки немного попрактиковаться. Тут ведь сразу другой антураж, есть психологическое давление. Не все переносят это адекватно. Для многих, в том числе и для страны, — это испытание.
— Среди врачей есть паника?
— Это не паника, это другое. Для многих рухнул привычный уклад жизни, не стало вдруг возможности общаться со своими близкими вживую, вернуться домой и погладить кота. Сама работа стала другой.
— Ну интересно же, наверное? Раньше глазами занимались, а тут жизни спасаете.
— Раньше я тоже не лишал людей жизни. Поначалу — да, было интересно. Сейчас я не могу сказать этого. Если все думают, что мы туда кинулись добровольцами, то это не так. Мы не хотели туда идти, но понимали, что это необходимость. В каждом коллективе есть люди моложе и крепче физически, и есть постарше или с болезнями. Это профессионалы своего дела, но уже в возрасте, — им туда не надо.
— Сильно ли МОНИКИ пострадала от открытия ковидария?
— По долгу службы мне приходится общаться с хирургическим отделением. Пациенты не получают нейрохирургической и офтальмологической помощи, нет плановых операций в травматологии, отложена онкология разных направлений, хотя потребность в них и в условиях «мирного времени» была высокая. Это страшно, это печально, это – катастрофа.
— Но что делать, чтобы не оказаться у реанимации, а потом у патологоанатома с тремя весами легких?
— Сейчас сидеть большой компанией за столом – не время, надо избегать массовых скоплении людей. Когда встречаешься с незнакомым человеком, ты же не знаешь, что с ним, насколько он адекватен в плане здоровья. При первых признаках дыхательной недостаточности надо бить тревогу.
— Это какие?
— Считается, что один из благоприятных вариантов течения болезни начинается с потери вкусовых ощущений. Это не 100%, но для многих пациентов, если это так, всё проходит относительно благоприятно. Беспокоиться надо при резкой слабости с высокой температурой. Слабость бывает такого уровня, что, встав утром с постели, человек с огромным трудом доходит (иногда не доходит) до туалета. И, конечно, одышка, ощущение нехватки воздуха.
— Некоторые до сих пор считают, что covid-19 — это полностью фейк.
— Я не президент Бразилии, который отрицает существование этого вируса. Я его вижу и знаю, что он может быть опасным. Но не думаю, что он «тотально опасен». Всё-таки многие люди болеют бессимптомно или болезнь протекает в лёгкой форме. Но то, что можно серьезно «влететь, – я могу сказать по заболевшим коллегам. Многие из них младше меня, ведут правильный образ жизни, — и болеют тяжело. А вот другим ничто человеческое не чуждо, но они переносят эту болезнь легче. Поэтому, посмотрев на человека и даже собрав анамнез, трудно сказать, как он перенесет болезнь.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

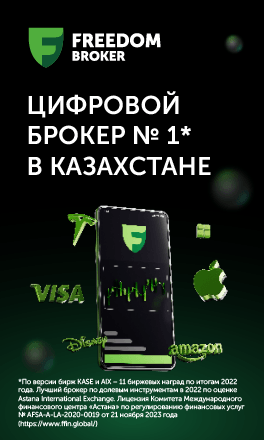
Комментариев пока нет