Как транзит власти в России набирает обороты
Большая пресс-конференция Владимира Путина, как и прямая линия, традиционно призвана играть некую терапевтическую функцию в отношении социально раздраженного населения. Однако в этот раз дело выглядело так, что в терапии нуждался сам Путин: «живая» пресс-конференция позволила ему хоть в каком-то, пусть синтетическом виде соприкоснуться с источником легитимности – народом (в данном случае его представляли «народные СМИ») и ощутить собственную востребованность. Такая потребность – достаточно яркий сигнал изменения роли самого Путина в системе, где после конституционной реформы наблюдается процесс отделения суверена от государства, которое, как Левиафан Томаса Гоббса, обретает собственную субъектность, затмевая своего создателя, хотя и с позволения последнего. Транзит власти начался так, как Путин счел наиболее безопасным для себя и для государства, – от «национального лидера» к режиму.

Культ государства
Одной из важных особенностей позднего периода Путина является постепенное формирование «культа государства». Все виднее особое отношение Владимира Путина к государству как институту, который вправе обладать особыми, эксклюзивными и чрезвычайными полномочиями в отношении управления рисками и угрозами, а также абсолютным приматом государственных интересов над интересами общества. В отличие от демократического понимания природы государства здесь этот институт наделяется презумпцией невиновности, правом совершать ошибки и минимизировать свою подотчетность обществу, скрывая любую долю информации о своей активности.
Проще говоря, зацикленность на безопасности во всех ее смыслах превращает государство в одну гигантскую ФСБ, где есть и эксклюзивное «историческое» право на «беспредел», если он объясняется национальными интересами. Отсюда, например, острое сопротивление попыткам ворошить архивы НКВД, болезненная реакция на критику Сталина или трансформация государственного функционирования в формы тайных спецопераций. В такой системе нет места не только для внесистемной оппозиции, но и резко сужается пространство для системных политических сил, от которых Кремль все активнее требует проявления однозначной политической солидарности.
Владимир Путин все свое президентство выстраивал исходя из фундаментальной установки, что США десятилетиями готовят развал России изнутри. Отсюда однозначная ставка на закручивание гаек внутри страны, выстраивание более жесткой вертикали, подавление либеральной оппозиции как идеологического союзника Запада. Вопреки широко распространенному мнению Путин в итоге выстроил не личный авторитарный, а деперсонифицированный режим, где государственная безопасность как высшая ценность становится идеологическим контуром функционирования всей власти. С одной стороны, шло взросление и политическое созревание путинского «Левиафана» – культа государства с чрезвычайными полномочиями, а с другой стороны, наблюдалась эрозия личной роли Путина, снижение его доступности для элит и резкое ослабление его арбитражной функции. Конституционная реформа, вкупе с пандемией, эти процессы резко усугубили, создав нечто совершенно новое.
Созревание Материи
Левиафан, или Материя, как писал про государство английский философ XVII века Томас Гоббс, подобно Богу, должен оставаться непостижимым, особенно для простого человека, который может лишь преклоняться перед его мощью, авторитетом и мудростью. Это очень похоже на российскую действительность, где сворачивается и упрощается политический дискурс, общество постепенно лишается права знать и участвовать в принятии решений (достаточно посмотреть даже на последние законопроекты о публичной власти, где президент фактически получает право вето на итоги региональных выборов), а глава государства, не стесняясь признается, что бóльшая часть его встреч не получает официального освещения. «Я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Просто по телевизору не показываем: на три метра люди садятся от меня, и мы беседуем».
Вера в некую морально-историческую миссию ведет к сакрализации государства в глазах самого Путина, сознательно культивируемой неподконтрольности и демонстративной безнаказанности. Право государства на легитимное насилие в такой ситуации трансформируется в право на подчеркнутую жестокость (дело Зуева, Лилии Чанышевой), являющуюся не просто избыточной, но и в большинстве случаев происходящую без непосредственного вовлечения самого президента.
Такой системе все сложнее не только признавать ошибки, но и идти на необходимые послабления (это хорошо видно по вялотекущему процессу пересмотра законодательства об иностранных агентах, которое может в итоге обернуться ужесточением). При появлении серьезной критики Путин все чаще занимает позицию адвоката, выращенного собственными руками Левиафана: это хорошо видно по его ответам на вопросы о пытках в тюрьмах (на Западе еще хуже), расследовании политических преступлений и грубое отношение к журналистам «враждебных» стран – SKY News и BBC. Снисходительная позиция Путина резко снижает возможности остановить или просто замедлить инерцию ужесточения: система не просто не умеет «откатывать назад», она это считает проявляем слабости, созданием уязвимости, которой неизбежно могут воспользоваться недруги.
Увядание суверена
В логике теории Гоббса о Левиафане Путин выглядит классическим сувереном, обладающим уникальными правами – единственным, за кем сохраняется абсолютная власть и функция представлять Левиафана в отношениях с обществом. Однако особенность нынешней ситуации заключается в том, что суверен начинает пасовать перед растущей мощью собственного детища – Левиафана, позволяя ему все чаще полностью замещать себя самого.
От путинской знаменитой системы ручного управления уже давно ничего не осталось, но сегодня и персональная роль Путина маргинализируется. И на последней прямой линии, и в рамках нынешней пресс-конференции он выступает уже как механическое передаточное звено «жалоб и предложений» «компетентным органам» – без проявления политической воли, без формулирования внятной собственной позиции в отношении названных проблем. Даже по тем вопросам, в которые он глубоко и детально погружен, вроде эпидемиологической обстановки, президент предпочитает занимать роль стороннего наблюдателя, который скорее описывает ситуацию, чем участвует в управлении ею. Вопрос за вопросом он снимает ответственность с себя за происходящее: демографическая проблема – так во всех постиндустриальных странах; высокая смертность от ковида – народ не хочет вакцинироваться; наращивание темпов вакцинации – пусть губернаторы уговаривают население; больницы и школы не строят – регионы экономят, хотя их финансовые возможности существенно выросли; инфраструктура села не развивается – правительство все делает, программы запущены; «Роснано» в кризисе – у нового руководства компании есть карт-бланш, пусть и занимаются. На поток острых, лежащих на поверхности системных проблем Путин реагирует так, будто он лишь корпоративный юрист государства, готовый заслушать позицию обвинения и выработать затем линию защиты своего подопечного.
Такое дистанцирование от государства, взгляд на его работу как бы со стороны – знак добровольной политической девальвации самого Путина как автократа и переход на деперсонифицированную «систему» – такую, где кроме самого Путина пока никому другому не позволено существовать политически.
Это не означает, что президент всем удовлетворен. Однако Путин сознательно и дотошно будет говорить об успехах, считая такую линию вопросом государственной (уже не политической) стабильности – потребности демонстрировать властное единство. Опасаясь, что публично вытащенные на поверхность ошибки и промахи тут же станут геополитической уязвимостью, он склонен замалчивать многие объективные проблемы и вызовы. Это было хорошо видно по эмоциональному диалогу с режиссером Александром Сокуровым на недавней встрече с членами СПЧ. Отсюда и постоянные маниакальные сравнения с тем, «как у них» – по словам Путина, Россия и политически либеральнее (закон об иностранных агентах), и экономически эффективнее (российская экономика гораздо меньше просела и быстрее восстанавливается, чем на Западе).
Путин гораздо больше, чем в прежние годы, дистанцируется и от действий силовиков, однозначно отдавая предпочтение «компетентным органам» и их «профессиональной» позиции перед своим мнением. И если публичная позиция Путина противоречит официальным действиям силовиков или судебной системы (а это происходит все чаще), президент не стесняется подчеркнуть приоритет последних. Суд может легко игнорировать слова Путина, что нет никакой необходимости держать Зуева в СИЗО, или продолжать преследовать свидетелей Иеговы, несмотря на негодование президента. И Путин не воспринимает это как саботаж, напротив, он к этому стремится – к формированию жесткой системы, которая могла бы функционировать вне политической конъюнктуры.
Такое сознательное делегирование – не что иное, как подготовка Путиным собственноручно выращенного Левиафана к жизни в постпутинской России. Объективно это ведет к усилению субъектности, инициативности государства и эрозии роли суверена. Пока Путин сам относительно политически силен и дееспособен, процессы «взросления» его детища кажутся подконтрольными, а прерогативы возвратными (сегодня разрешу, а завтра могу и передумать). Однако время играет против него, и по мере наращивания институциональных мускулов такой Левиафан однажды может вытеснить на обочину самого суверена.
Владимир Путин постепенно обучает, развивает, тестирует, испытывает Левиафана, одновременно защищая его от критики, оберегая и прикрывая. Это не только и уже не столько вопрос политического комфорта (скучно заниматься рутиной или нежелание брать ответственность за непопулярные решения), это стало вопросом ползучего транзита власти. Президент готовит страну к своему «уходу» – уже не важно, естественным ли путем или через назначение преемника: при любом варианте предполагается замещение путинской системы ручного управления режимом автопилота в виде зрелого, политически субъектного Левиафана, который и есть тот самый преемник, а имя действующего президента будет уже не так важно.
Путин, в свою очередь, очень четко разделяет то, что он считал нужным сделать внутри страны (тут на фоне конституционной реформы и постконституционных законов выстраивается завершенное унитарное государство и подконтрольная вертикаль), и то, что ему только предстоит завершить на внешней арене. Во втором случае незавершенными остались два стратегических проекта – «нейтрализация» Украины как «анти-России» (будь это через «гарантии безопасности» или через непосредственное присутствие России на территории Украины) и геополитическое присоединение Белоруссии (формирование таких институтов и механизмов, которые закрепят Белоруссию в зоне влияния России вне зависимости от природы правящего там режима). А после – можно и на покой.
Проблема этого плана лишь в одном – на протяжении всего путинского срока правления многие из судьбоносных решений принимались под влиянием внезапно появившихся обстоятельств либо обстоятельств, неподвластных российскому лидеру. Выращивание Левиафана делает Путина еще более зависимым от окружающей его среды и менее способным контролировать свое собственное будущее. Но как бы ни складывались обстоятельства, путинский преемник в виде созданной им системы, пока еще не очень решительный и оглядывающийся на своего демиурга, нащупывает с каждым днем все новые возможности экспансии и раздвигает лимиты самостоятельности. Однажды такому Левиафану может потребоваться новый суверен, способный, в отличие от предшественника, перестроить общественный договор и вернуть себе функцию «последней инстанции».
Татьяна Становая, Московский центр Карнеги

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

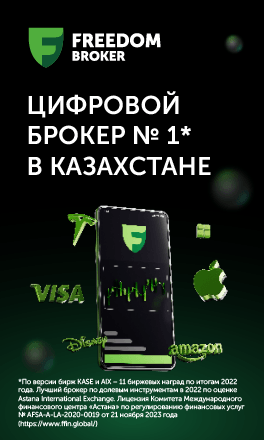
Комментариев пока нет